За прошедшую пару лет фигура немецкого писателя Винфрида Георга Макса Зебальда благодаря появлению на русском языке двух романов («Аустерлиц», «Кольца Сатурна») и сборника эссе («Естественная история разрушения») стала до определенной степени известна. Контекст читательского восприятия этих текстов преимущественно связан с мифом о «большой» и(ли) «интеллектуальной» литературе, о современном европейском каноне, о крупных наградах или слухами про них: за несколько лет до трагической гибели в автомобильной аварии в возрасте 57 лет Зебальду прочили Нобелевскую премию по литературе.
Симптоматично издательское решение поместить на обложку обоих романов цитату из Сьюзен Зонтаг, которая, отвечая на вопрос «Возможна ли сегодня большая литература?», для утвердительного ответа обращается именно к наследию Зебальда. Если добавить к этому сложную полифонию жанровой неопределенности его произведений – (авто)биография, записки путешественника, историческое исследование, интеллектуальный коллаж – и их тематическую связь с наследием Второй мировой войны, появляется риск поспешной классификации и занесения в пантеон «нового классика», что столь необходимо для читательского успокоения.
Не оспариваю полностью подобный подход к описанию фигуры Зебальда и признаю за способами рецепции его творчества определенную конъюнктуру и конформизм мира современной литературы, но думаю, что тексты немецкого литератора, тем не менее, содержат критический потенциал и принципиально важный формалистский эксперимент. Несмотря на то, что связь литературы и памяти давно стала избитым клише многих авторских стратегий, «метод» Зебальда позволяет извлечь из этой темы перспективный урок. Если верно, как пишет Зебальд в цикле лекций «Воздушная война и литература», что «даже славная литература развалин, программно заявлявшая о честном и неподкупном изображении реальности, при ближайшем рассмотрении оказывается уже настроенным на индивидуальную и коллективную амнезию инструментом», то какого рода литературная стратегия способна противостоять забвению?
Зебальд родился в 1944 году. Его интеллектуальное воспитание, университетская карьера и переезд в 1970 году в Великобританию, где он продолжил свою преподавательскую деятельность, – все это экранирует его восприятие одной из главных катастроф ХХ века либо литературой воспоминаний непосредственных участников, либо историческими архивными документами. Неудивительно, что одна из характеристик его произведений, к которой прибегал сам Зебальд, может условно быть передана формулой «документальный вымысел» (или «художественная документалистика»).
Читателям его романов хорошо знаком странный эффект блуждания авторской речи, в которой совершенно незаметно происходят переходы из режима личного почти дневникового повествования к пространным страницам описаний исторических событий, географических подробностей, научных разъяснений. Речь не идет о некоторой уловке, сбивающей читателя с настроенного способа восприятия. Скорее здесь проявляется авторское сомнение и неприятие устоявшихся конвенций повествовательных техник. Иначе говоря, Зебальда нечто смущает и отталкивает от повествования «классического образца», и это «нечто» связано с феноменом послевоенной памяти.
***
Зебальд обращается к теме литературной памяти о последних годах войны и о масштабах разрушений немецких городов, о которых, как он утверждает, отсутствует «хотя бы мало-мальски удовлетворительное представление» в немецкоязычной литературе, пытаясь понять столь странное молчание и установить критерии признания подлинных воспоминаний, доверия к ним и отделения от искажающих факты фикций.
«Нормальное функционирование обычного языка в рассказах большинства очевидцев заставляет усомниться в аутентичности изложенного в них опыта. За считанные часы в огне погиб целый город со всеми его постройками и деревьями, со всеми жителями, домашними животными, всевозможной мебелью и имуществом, а это не могло не привести к перегрузке и параличу мыслительной и эмоциональной способности тех, кому удалось спастись. Сообщения отдельных очевидцев поэтому имеют лишь относительную ценность, и их необходимо дополнить тем, что открывается при синоптическом, искусственном сопоставлении».
Подобные пассажи позволяют лаконично объяснить, почему формалистский эксперимент в литературе необходим в силу не только эстетической потребности, но и этического выбора. Немецкий писатель, видимо, хорошо усвоил урок Анри Бергсона: всякое событие человеческой памяти неизбежно реально. Вопрос не в том, как отличить фикцию от действительности, а в том, как сделать психологический индивидуальный или коллективный опыт не частью архива, но чем-то актуальным здесь и сейчас. Или, как это сформулировал сам Зебальд: «Я не сомневаюсь, что воспоминания о ночах разрушения существовали и существуют; не доверяю я только форме, в какую они облечены, в том числе и литературной».
Таким образом, очевидны эстетические и политические ставки литературного предприятия немецкого писателя. Его поиск направлен на выработку такого режима письма, который бы возвращал архивный опыт прошлого, пылящийся в хрониках тех лет, к актуальной жизни всякого читателя, еще более дистанцированного от событий тех лет большим массивом литературы, кинематографа и т. п.
***
Переводя повествовательные техники из режима «записок путешественника» в режим «занудного ученого» (достаточно перечитать первые страницы из романа «Аустерлиц», чтобы наткнуться на педантичное, сухое описание архитектурных особенностей военных сооружений), Зебальд достигает странного эффекта читательского (не)узнавания. Так же, как субъект воспоминания в «Аустерлице» распылен между личной трагедией ребенка, изъятого из еврейской семьи в последние годы войны, и учеными заметками совершенно безличного свойства о местах, способах, масштабах истребления людей во время Холокоста, так же и позиция читателя обнаруживается в «зоне неразличения» индивидуального и коллективного. При этом Зебальд совершенно отказывает в привилегированности научному взгляду, признавая за ним скорее груз, еще более отягощающий исторические события.
Если роман «Аустерлиц» преимущественно построен как постоянный маятник между личным и (лишь по видимости) бессубъектным повествованием, то «Кольца Сатурна» намечают еще несколько мотивов стратегии письма Зебальда. В частности, он переводит сюжет о документальной достоверности событий в план визуального эффекта: читатель, помимо прочего, еще и видит написанное, а потому вопрос перспективы и настроенности такого взгляда представляется одним из важнейших. Так, оказавшись в мемориале битвы при Ватерлоо, рассказчик передает, как уловка, якобы позволяющая увидеть больше, четче, полнее, напротив, способствует слепоте (критического) взгляда всякого посетителя музейных пространств.
Неудивительно, что тема «империализма взгляда» по ходу романа разворачивается в сторону сюжета «Империализма как высшей стадии капитализма» (на любопытную связь между романом Зебальда и работой Ленина обратил внимание Александр Скидан). «Английское паломничество» (второе название «Колец Сатурна») – не только набор географических точек юга Великобритании, по маршруту между которыми движется рассказчик, но и их историческая связь, которая раскрывается как малая история эпохи современного капитализма.
Роман оказывается наложением двух карт: пространственной (карта маршрута) и временной (карта коллективной и индивидуальной памяти). Если вновь вспомнить Бергсона, то именно в точке пересечения «чистого воспоминания» и «чистого восприятия» и рождается «воспоминание-образ» как то, что делает вновь актуальным, значимым некогда реальное историческое событие. Зебальд не напоминает, что некогда произошло, а помещает это «уже прошедшее» в такой режим письма, который читателю позволяет не вспомнить, но прояснить. В том числе прояснить связь между высоким искусством и насилием, которая быстро стирается из памяти, когда литература работает как «инструмент амнезии». Например, как в случае с чем-то таким сладким и притягательным, как торговля сахаром.
«В тот вечер мы просидели в баре до закрытия. Разговаривали о расцвете и закате обеих наций и своеобразных тесных связях, которые вплоть до конца ХХ века существовали между историей сахара и историей искусства. Сверхприбыли от возделывания сахарного тростника и торговли сахаром скапливались в руках всего нескольких семейств, и поскольку другие возможности демонстративного потребления были весьма ограничены, значительная часть богатства тратилась на обстановку и содержание роскошных сельских имений и городских дворцов».
Олег Горяинов
Опубликовано в «Свежей газете. Культуре», №№ 1–2 (109–110), 2017

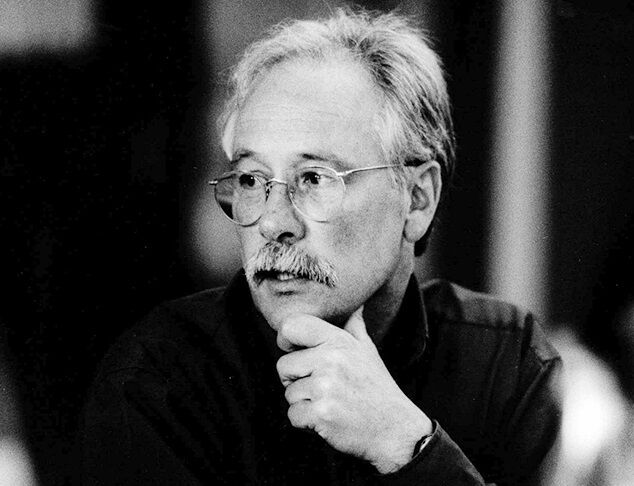










Комментарии (0)
Оставить комментарий