По-разному люди читают книги. И о разном. В том смысле, что каждый вычитывает что-то свое, хотя текст, вроде бы, они читают один и тот же. И приходят к чтению, к любимой книге тоже разными путями.
Ну, например:
Итак, осенью 1981 года, будучи первоклассником Красноармейской средней школы, автор этих строк только-только начал учиться читать и писать, а в день приема в октябрята получил в подарок от десятиклассников тоненькую книжечку, только что выпущенную Куйбышевским книжным издательством, – «Детство Никиты» Алексея Толстого. Вот она и сейчас передо мной, с надписью, сделанной шариковой ручкой на обороте обложки: «Ребятам-октябрятам от учеников 10 «б» класса» – и толстовскими словами на титуле: «Моему сыну Никите Алексеевичу Толстому с глубоким уважением посвящаю. Автор». Должен признаться, что две эти дарственные надписи казались мне когда-то едва ли не слившимися до некоторой степени в одну общую. <…> Может быть, именно в силу этого я и полюбил когда-то эту книжку с распахнутым окном на обложке – книжку, в каждой строчке которой рассказывалось не только про родину А. Н. Толстого, но и про мою тоже.
Это из авторского предисловия к новой книге Михаила Перепелкина, только-только вышедшей из печати. «Вокруг «Детства Никиты» – далеко не первая, но, пожалуй, самая фундаментальная книга автора, хорошо известного и читателям нашей газеты (в каждом номере его эссе, архивные изыскания, размышления о людях и книгах), и телезрителям (много лет он рассказывает о самарской истории на ГИСе), и, конечно же, студентам Самарского университета, будущим филологам и журналистам, которых он учит уже, наверное, лет двадцать.
Поначалу я не предполагала никаких неожиданностей. Ну что еще можно написать про «Детство Никиты», когда уже столько всего написано? И сам Перепелкин тщательно, подробно пересказывает и цитирует своих предшественников, с кем-то споря, с кем-то соглашаясь, какие-то факты ставя под сомнение. И вроде бы всё как положено: вот текст Толстого, вот некие факты реальной жизни, более или менее подкрепленные документами, а вот выводы об авторском вымысле, о причинах и результатах отступления от реальных фактов. Но книга почти сразу увела меня от ожидаемого сюжета.
Что-что, а строить сюжет Перепелкин умеет: во-первых, филолог, во-вторых, архивист, музейщик. Работа с архивными документами, поиск музейных экспонатов подчас напоминают запутанные детективные истории. Он, кстати, свои очерки и телевизионные фильмы именно так и выстраивает – словно пазл складывает, чтобы из разрозненных кусочков вышла целая картина. Не пренебрегает, впрочем, и художественным вымыслом.
Но одно дело – завязать интригу для небольшого газетного очерка или получасового фильма, и совсем другое дело – для огромного (702 страницы!), развернутого повествования, которое в итоге разбежится на множество сюжетных линий, самостоятельных историй.
Начинается повествование с главы «Отец», затем идет глава «Матушка». Имеются в виду отец и мать Никиты и их легко узнаваемые прототипы – отчим и мать Алексея Николаевича Толстого, маленького Лельки, чье детство и было потом описано в «повести о многих превосходных вещах». С родителями связаны самые первые детские впечатления, поэтому в любом «романе воспитания» (а «Детство Никиты» таковой и есть) им отводится первое и главное место.
Любопытно, что главка, замыкающая всю книгу, называется «На память маме и папе…», только речь там идет уже о совсем других родителях и других детях – о семье, купившей у Алексея Аполлоновича Бострома хутор Сосновка и жившей около двадцати лет «в том самом доме, в котором прошло детство Алексея Толстого, где спустя еще несколько лет Алексей Толстой поселит Никиту и его родителей».
Впрочем, я сильно забежала вперед. Вернемся к оглавлению. Глав всего девятнадцать. Каждая из них разделена на подглавки. Они неравномерны, неодинаковы. В главе «Отец», например, девять подглавок, в главе «Мать» – семь, в четвертой главе «Деревня – река – плотина» – целых двадцать четыре, а в последней – «Миронов сад» – всего две. Порядок глав, состав и количество подглавок определены логикой повествования, которая, в свою очередь, подчинена цели, заявленной в авторском предисловии: описать «ускользающее пространство» толстовской повести, вернуть ему реальные очертания.
Мы осваиваем это пространство вроде бы вслед за Никитой – от родителей, от дома и усадьбы, через деревню, реку, плотину к соседним деревням и селам, с которыми тесно связана была жизнь сосновских обитателей, а значит, и персонажей повести. Но вслед за автором мы осваиваем не только собственно пространство хутора и его ближних и дальних окрестностей, но и пространство времени. Простите мне этот неуклюжий образ, но здесь мы действительно перемещаемся во времени как в пространстве, оно становится обратимым, в нем прокладываются свои маршруты, свои вехи и ориентиры.
Реальная жизнь и реальные люди так сложно переплелись с художественным сюжетом, что иногда трудно отделить одно от другого. Порой кажется, что автор, увлекшись своими изысканиями, и сам уже не всегда видит эту границу. Впрочем, идя за документами, за фактами жизни реальных людей, их родственников, свойственников и знакомых, он «Детство Никиты» из виду не упускает и всякий раз возвращается к тексту, повторяя порой одну и ту же цитату по нескольку раз, потому что от нее тянутся в реальную жизнь разные ниточки.
Честно сознаюсь, я не сразу поняла логику и, если можно так сказать, целеполагание этой книги. Документы, чертежи, планы, письма и дневниковые записи, выписки из метрических книг – всё это множится, цепляется одно за другое, и каждый раз надо заново возвращаться к исходному пункту. Как в цифровом пространстве, где манят синим цветом гиперссылки, щелкаешь одну за другой, а потом не сразу соображаешь, куда вернуться.
Бумажная книга позволяет преодолеть примитивную линейность текста и не только удерживать в памяти все его уровни, все авторские отступления, но и существовать одновременно на двух-трех-пяти страницах, легко перемещаться в пространстве сюжета, самостоятельно определять логику чтения.
Но в конце концов мне пришла в голову одна догадка. Верна ли она – не знаю. Впрочем, в отличие от Михаила Перепелкина, который свои предположения может проверить только новыми изысканиями и, если повезет, вновь найденными документами, я могу спросить у него самого. Догадка же такая: намеренно или нечаянно получилась книга-музей – такой вот странный жанр. Не виртуальный и уж тем более (увы!) не реальный, но самый настоящий музей, разместившийся на книжных страницах.
Музей-мечта, каким он мог бы быть, если бы через сто с лишним лет сохранилась усадьба с хозяйственными постройками, дом со всей обстановкой – мебелью, книгами, предметами обихода. Так подробно восстанавливает автор и план этого дома, и расположение комнат, их назначение, описывает, каков должен был быть вид из того или иного окна. Он пытается проследить судьбу каких-то предметов мебели, о которых удалось найти свидетельства, представить, какие книги заполняли или могли бы заполнять полки книжного шкафа и куда они потом девались. Не только бытовой уклад небогатых провинциальных помещиков, но трогательная история настоящей любви, потребовавшей многолетнего мужества, душевной стойкости, и духовный, интеллектуальный мир типичнейших русских интеллигентов открываются нам. Это мог бы быть музей не только одной книги, это мог бы быть музей русской интеллигенции, вообще глубинной русской жизни. Но пока есть только мечта о нем – эта книга-музей.
Татьяна Журчева
Кандидат филологических наук, литературовед,
театральный критик, доцент Самарского университета, член Союза театральных деятелей и
Союза журналистов России.
«Свежая газета. Культура №24 (221)»

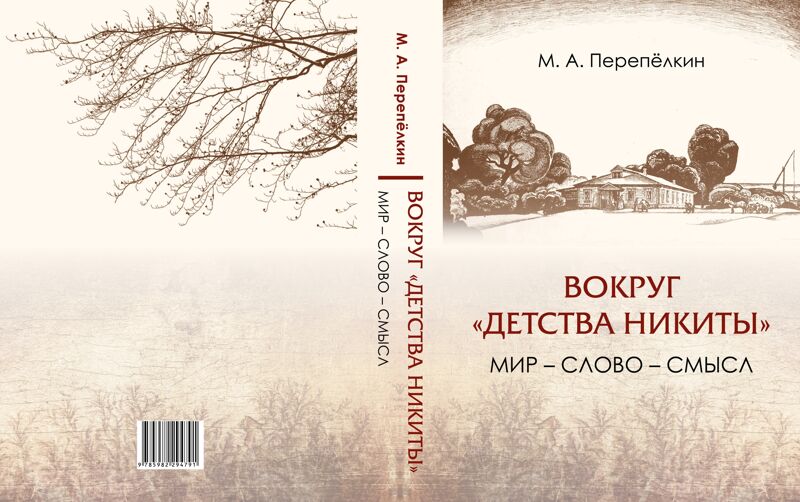













Комментарии (0)
Оставить комментарий