Художественная манера писателя вполне вписывалась в добротный контекст литературной традиции. Романова стали именовать «советским Чеховым». Обнаруживалось много моментов родства – и умелое использование возможностей бытовых анекдотических ситуаций, и интерес к малым повествовательным жанрам, и внимание к комической детали. Да и с писателями 1920–1930-х годов у него находились смыслоемкие переклички. Наверное, отнюдь не случайно современный исследователь О. Малышкина свою книгу о прозаике назвала весьма примечательно: «Двойник Зощенко, или Советский Чехов: Феномен Пантелеймона Романова».
Любой писатель в своей творческой жизни выполняет много разнообразных социальных функций. Ну, а писателю реалистического направления никуда от роли диагноста не уйти. Это его удел. Миссия. Если хотите, судьба.
Романов писал рассказы из народной жизни. Казалось бы, дело не новое, сколько таких рассказов и очерков было написано во второй половине девятнадцатого и в начале двадцатого века авторами одного только народнического направления! Чем тут можно особо поразить читателя? Однако романовские повествования отличаются предельной жесткостью по отношению к народному типу. Они лишены интонации безоглядного умиления. В них совершенно нет сусального народопоклонства. Народ воспринимается Романовым во всем реальном многообразии живых лиц, во всей совокупности противоречивых реакций на изменившуюся действительность. Это не умозрительная конструкция, не абстракция, не хорошо намоленная икона.
Вспомним, как иронически описал М.Горький собрания народников во флигеле у Катина («Жизнь Клима Самгина»). К этому времени сам Горький уже давно освободился от народнических иллюзий, в плену которых находился в свои молодые годы. Он писал в романе: «Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили «народ» и пошли воскрешать, спасать его. Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны». Вот и во флигеле Катина пели: «Выдь на Во-о-лгу...» – «Чей стон», – не очень стройно подхватывал хор. Взрослые пели торжественно, покаянно, резкий тенорок писателя звучал едко, в медленной песне было нечто церковное, панихидное». Не случайно Варавка бросает едко-насмешливое: «Обычная русская квасоварня. Балаган, в котором показывают фокусы, вышедшие из моды».
Романов очень требовательно относился к той народной толще, откуда были родом герои его многочисленных рассказов. Затянувшийся сон народа, его порой нравственная неразборчивость, его тотальное равнодушие ко всему окружающему, терпение, оборачивающееся жутчайшей косностью, – все это не могло настраивать трезвого реалиста, каким был Романов, на беспричинно-восторженный лад.
Романовские мужики всегда живут в сфере неразрешимого противоречия между первоначально благими намерениями и – увы! – иногда порочными действиями. Противоречие это, по сути, трагикомично. С одной стороны, благие намерения, остающиеся пустыми словами, смешны. Но, с другой стороны, не совсем праведные действия односельчан могут стать причиной даже гибели человека.
Вот фабула одного из рассказов. Происходит уголовное преступление, убийство: на глазах у беспечно созерцающей праздной публики («да вон на горочке все сидели») грабитель убивает прохожего. Никто в драку не вмешивается, многие руководствуются спасительной версией – может быть, «за дело учит». Рассказ имеет парадоксальное название «Загадка». На деле никакой загадки нет. Грабитель просто оказался хорошим психологом и понял удобную в его случае безобидность пассивного крестьянского зрительства.
Содержащие сатирическую критику рассказы Романова по сути своей представляют собой нравоописательные этюды. Это маленькие сценки с весьма заметным драматургическим элементом. Их можно разыгрывать как одноактные пьесы. В рассказах мало слов повествователя, но зато много реплик персонажей. Суммарный портрет народной массы дан именно с помощью этого многоголосия.
Описание анекдотических ситуаций и разнообразных версий случившегося приобретает в рассказах писателя действенность и динамизм. Смена масок, речевых регистров становится подчеркнуто событийной. Рассказчик оказывается в развертываемом словесном действе персоной многоликой – и «драматургом», и «режиссером», и многими «актерами».
Это хорошо демонстрирует рассказ «Спекулянты». Описывается будничная ситуация, весьма характерная для 20-х годов: люди на вокзале стоят в огромной очереди к билетной кассе, надеясь заполучить заветный билет. Первый абзац текста вполне обыкновенен и ничего экстраординарного не предвещает. Но вот следующая фраза-абзац как раз и несет в себе зерно комической интриги: «В зале стоял крик и плач младенцев, которые были на руках почти у каждой женщины и держались почему-то особенно неспокойно».
Именно неестественное и непонятное скопление такого количества младенцев на вокзале начинает нас, читателей, по-настоящему занимать и подводит к законному вопросу: «Что бы это значило?». Ответ мы находим на той же странице: «Вот какие с младенцами-то, те все уедут, - без очереди дают». И выясняется, что младенцы оказались на вокзале не случайно – предприимчивые гражданки выдают их «напрокат» тем, кто хочет гарантированно получить билет, не выстаивая в длинной очереди. Отсюда становится понятным обмен репликами по поводу стоимости таких «прокатных» услуг:
– Четыре тысячи просят…
– Креста на них нет, вчера только по три ходили…
Ситуация обрастает различными версиями происходящего. Одни объясняют послевоенным увеличением рождаемости: «Вон их какая орава поперла. Вот тут и получи билет. И откуда это, скажи на милость? Прямо кучи ребят».
Другие считают это результатом беспорядочных половых сношений:
«Там карга какая-то старая стоит, - тоже с младенцем. Тьфу! Кто ж это польстился, ведь это ошалеть надо.
– Теперь не разбираются».
Включение понятия «младенец» в непривычные семантические связи приводит к возникновению новых словосочетаний, углубляющих данные смыслы. Так, про одну бабу говорится, что она «владелица двух младенцев». Или: «И баба взяла запасного младенца с пола». Текст изобилует словами и сочетаниями слов, характерных для описания какого-нибудь базарного дня: «что просишь?»; «цена везде одинаковая, родимый: четыре»; «дороговизну-то какую развели?»; «в десять минут всех расхватали».
Автор использует и прием смыслового крещендо, когда мотив одной подмены заменяется мотивом другой (еще более несообразной!) подмены. Когда одна торговка ввиду нехватки младенцев вынуждена была взять «трехгодовалого» ребенка, ее ждал конфуз – обман раскрыли и билет не дали.
«К кривой бабе подбежала торговка и, с сердцем сунув ей малого, сказала:
– Лешего какого взяла, не выдают с таким. Только очередь из-за тебя потеряла.
Старичок в валенках посмотрел на нее и сказал:
– Ты бы еще свекора на руки взяла да с ним пришла».
Несообразности, таким образом, громоздятся одна на другую, образуя забавную цепочку: «чужой младенец на руках» – «трехлетний малыш на руках» – «свекор на руках».
Романов часто предпосылает своим рассказам заглавия-обманки. Последующий текст их опрокидывает, обессмысливает. «Дружный народ» оказывается вовсе не дружным. «Распорядительный народ» – совсем не распорядительным. Герои писателя не обладают плоской, картонной одномерностью, они не сошли с плаката, а являют собой вполне реальные народные характеры со всем набором своих противоречий и предрассудков.
Такая совершенно самостоятельная, независимая от установлений власти позиция писателя стала причиной его официального замалчивания в 30-е годы. Романова мало печатают. Его публичные выступления начинают отменять. И это на фоне растущей популярности у читателей, европейской известности. Записи романовского дневника той поры пронзительно грустны и весьма пессимистичны:
«Меня не печатают, не переиздают. Я не знаю, чем мы будем жить. <…> Приезжавшие ко мне члены английского парламента, уходя, сказали: «Расскажем в парламенте, что видели Романова». Приезжавшая норвежка называла меня великим писателем. В Норвегии был поднят шум о том, что такой большой художник живет в СССР чуть ли не в подполье. Этого нет, но меня почти не покидает чувство какого-то позора. Мало денег, так как меня не переиздают. <…> Настроение – травимого зверя и ощущение полной бесправности. <…> Критика негодует на меня, что я все такой же, что я не сливаюсь с эпохой и не растворяюсь в ней, как другие».
Сильные мира сего ждали от писателя мажорных интонаций, идеологических славословий, иллюстраций к идеологическим постулатам, а он не собирался меняться и жить по принципу «Чего изволите?», оставался трезвым реалистом-диагностом, доверявшим своим собственным зорким глазам, а не «спущенным сверху» инструкциям и призывам.
А он мечтал реализовать свой творческий дар в больших эпических формах, много надежд возлагал на роман «Русь», но в памяти благодарных читателей остался прежде всего блистательным автором сочных сатирико-юмористических рассказов о суетно-абсурдной и противоречивой народной жизни эпохи великих перемен.
Сергей Голубков
Полный вариант статьи, опубликованной в издании «Культура. Свежая газета», № 9 (97) за 2016 год

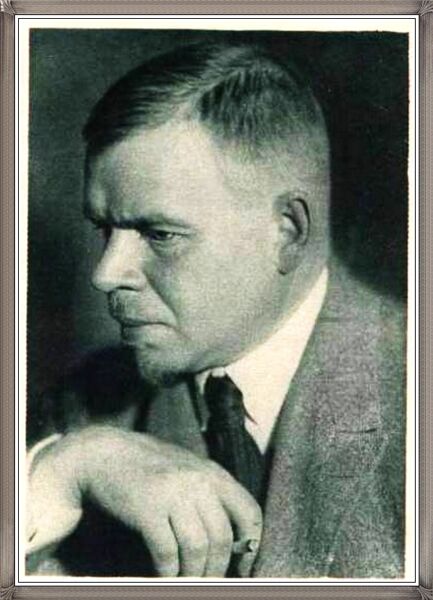










Комментарии (2)
Сергей Александрович, спасибо за открытие замечательного писателя — П.Романова. К своему стыду, первый раз прочла о нем.
никогда прежде не слышал про этого писателя, огромное спасибо автору и редакции за ознакомление с данной темой.