На этой неделе Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе. Им стал 71-летний венгерский писатель Ласло Краснахоркаи – «за захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства». Формулировка как будто списана с сегодняшнего дня. Впрочем, литература всегда говорила о сегодняшнем – даже когда рассказывала о позавчерашнем.
Человечество в своей истории всегда чем-то восхищалось, чего-то страшилось, забывало о несбывшемся, удивлялось и пугалось тому, что сбывалось. Боялось печатного слова – и переживало бурное развитие знаний благодаря ему. Запрещало книги во все времена и во всех странах – и рыдало о потере интереса к чтению, когда на смену книгам пришел телевизор, а ему – гаджеты в каждой руке. Сегодня мы пугаем друг друга искусственным интеллектом и массовым оглуплением поколения, способного только смотреть короткие «видосики» в TikTok. Как будто мы сами не из того же теста.
А между тем книга и чтение совершили самую мирную и самую значимую для человечества революцию – распространение знаний. Люди записывали изобретения и открытия, фиксировали исторические события, вели дневники и писали мемуары. Их современники и потомки рефлексировали над ними, давали оценку, спорили, не соглашались. Книга стала хранилищем знаний о мире и человеке, сохранила историю и культуру ушедших поколений для будущих.
Художественное слово позволяло пережить опыт других людей, осмыслить свой. Когда многие мои соотечественники удивились появлению в нашей жизни «ЧВК Вагнер», хотелось отослать их к воспоминаниям Ильи Эренбурга о гражданской войне в Испании 1936-1939 годов – об участии в ней не только техники и денег, но и военных, писателей и поэтов из СССР. История повторяется, просто мы плохо читали в первый раз.
Не может не удивить актуальность «Воспитания чувств» Флобера – книги совсем другой эпохи и другой страны. В 1848 году мыслящая часть общества перечисляет претензии к 18-летнему правлению «Июльской монархии»: радикалы упрекают умеренных в предательстве, важным обвинением становится невозможность свободы слова – «состоялось тысяча двести двадцать девять процессов по делам печати, три тысячи сто сорок один год тюремного заключения и штраф на сумму семь миллионов сто десять тысяч пятьсот франков». О любви и внебрачной связи периода смены эпох автор высказывается устами героя, утешающегося в объятиях куртизанки: «Я следую моде и ввожу реформу». Остаток дня они проводят у окна, глядя на улицу, полную народа. Шестая глава – к непременному прочтению для понимания нашего сегодня.
Преследования за высказывания о СВО заставляют вспомнить горячо любимого театрами СССР времен застоя Бертольта Брехта с его «Мамашей Кураж и ее детьми» и ее экранизацией во времена Афгана. Можно без труда догадаться, о чем писал скиталец по миру, изгнанный из Германии тридцатых годов.
О том же вынужденном отъезде – горькие воспоминания нобелевского лауреата Томаса Манна: двенадцать лет вне родины «невозможно сбросить со счетов, сделать вид, что не было утраты привычного уклада жизни, сопровождавшегося постыдной кампанией отлучений и отречений на родине. Я никогда не забуду той безграмотной и злобной шумихи в печати и на радио, той травли…». Нобелевскую премию Манну присудили за «Будденброков» – семейную сагу времен, когда происходит крушение общества, распадаются прежние идеалы, старые связи, и человек вынужден искать себя, обратиться к себе. Узнаёте?
Чтобы не впадать в отчаяние, непременно стоит перечитать писателей «плутовского романа» времен СССР – одесситов: Бабеля с циклом о Бене Крике, Ильфа и Петрова с их «Двенадцатью стульями», «Растратчиков» Катаева. Кладезь иронии на человека с его обольщениями и на обольстителей, суливших человечеству молочные реки.
Отдельно – о Леониде Соловьеве, участнике Отечественной войны, награжденном медалью и орденом, арестованном по доносу в 1946 году, сразу после окончания войны, за упреки в адрес Сталина, которому одному приписывали Победу. Арестовали, чтобы напугать тех, кто посмел подумать, что победитель – он и есть, и «развязал язык». Его «Повесть о Ходже Насреддине» написана в лагере на Колыме. Это говорит о многом.
Мир так привык к великому дару книги и чтения, что забывает подумать: каким бы человечество было, не будь книги как распространителя знаний, опыта человеческих отношений и трудного сохранения человеческого в человеке? И если нельзя что-то говорить вслух, то думать и читать запретить человечеству не удавалось никаким популистам, властителям на троне и любителям посидеть рядом с барским столом.
Читайте и перечитывайте «захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства». И тогда вспомнится, что для изобретения и обучения искусственного интеллекта требуется человек – и все накопленные им знания. Пока мы читаем, мы непобедимы.
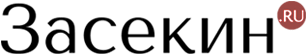
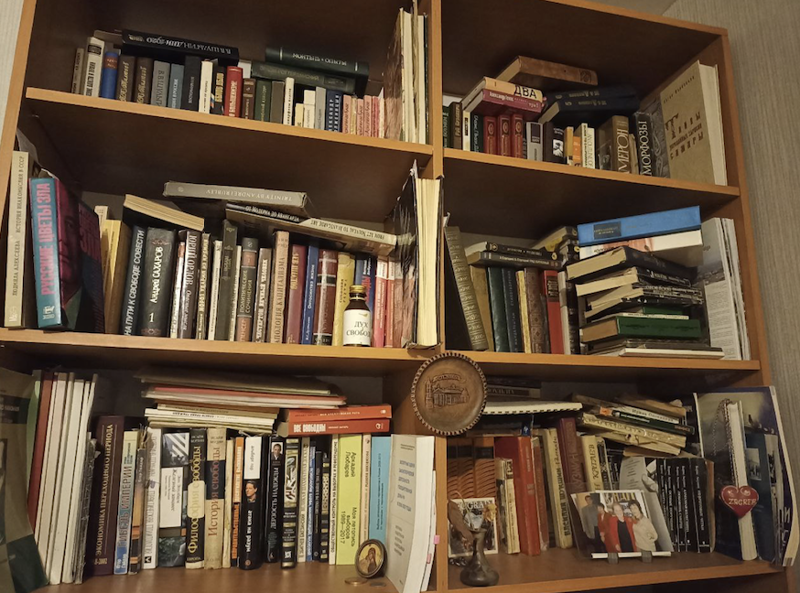










Комментарии (0)
Оставить комментарий